Детство в эвакуации
Воспоминания
Натальи Евгеньевны Мироновой
1941
Я родилась в 1937 году, и к моменту начала войны мне было всего 4 года. Мы жили в трехэтажном кирпичном доме около Курского вокзала. Когда начались налеты бомбардировщиков на Москву, все жильцы нашего подъезда спускались на первый этаж и сидели внутри подъезда, смотрели в открытую дверь. Мы слышали близкий грохот взрывов, но, по счастью, около нас ни одна бомба не взорвалась. Так продолжалось, наверное, несколько недель.
Еще одно воспоминание: мы укрываемся от бомбежки в метро. Целая толпа людей идет по тоннелю, по шпалам, и папа несет меня на руках. Мне было очень интересно, но я не пугалась, так как не осознавала опасности.
Моего отца, Евгения Осиповича Бургункера, в армию не взяли, так как после перелома рука не разгибалась полностью. Папа был художником-иллюстратором, поэтому он устроился заведующим типографией авиационного завода.
Я родилась в 1937 году, и к моменту начала войны мне было всего 4 года. Мы жили в трехэтажном кирпичном доме около Курского вокзала. Когда начались налеты бомбардировщиков на Москву, все жильцы нашего подъезда спускались на первый этаж и сидели внутри подъезда, смотрели в открытую дверь. Мы слышали близкий грохот взрывов, но, по счастью, около нас ни одна бомба не взорвалась. Так продолжалось, наверное, несколько недель.
Еще одно воспоминание: мы укрываемся от бомбежки в метро. Целая толпа людей идет по тоннелю, по шпалам, и папа несет меня на руках. Мне было очень интересно, но я не пугалась, так как не осознавала опасности.
Моего отца, Евгения Осиповича Бургункера, в армию не взяли, так как после перелома рука не разгибалась полностью. Папа был художником-иллюстратором, поэтому он устроился заведующим типографией авиационного завода.
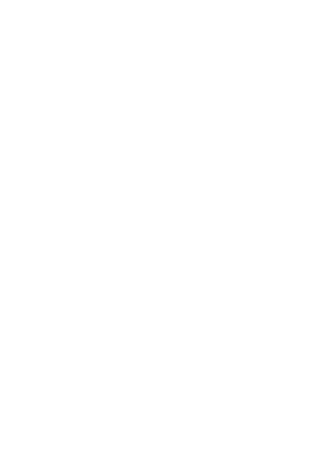
Отец: Евгений Осипович Бургункер / 1943 г.
Семьи работников этого завода отправляли в эвакуацию, поехали и мы - я, мама и мой пятнадцатилетний брат Игорь. Это был конец июля 41-ого года, было жарко. Нас повезли в направлении Куйбышева (ныне Самара). Мы ехали через выжженную солнцем степь, когда состав вдруг остановился. Так как в вагонах было очень тесно, все, кто был постарше, выскочили из поезда подышать воздухом. Через какое-то время поезд вдруг начал двигаться, без всяких гудков, без сообщений. Все бросились обратно в вагоны, а поезд все набирал и набирал скорость. Игорь тоже выходил на улицу. Когда состав тронулся, мы с мамой смотрели в окно, но среди запрыгивающих в вагон, брата не увидели, и я подняла страшный рев – я испугалась, что он останется. Мама пошла по вагонам, и вернулась вместе с братом – он успел вскочить в один из последних вагонов. Я очень обрадовалась.
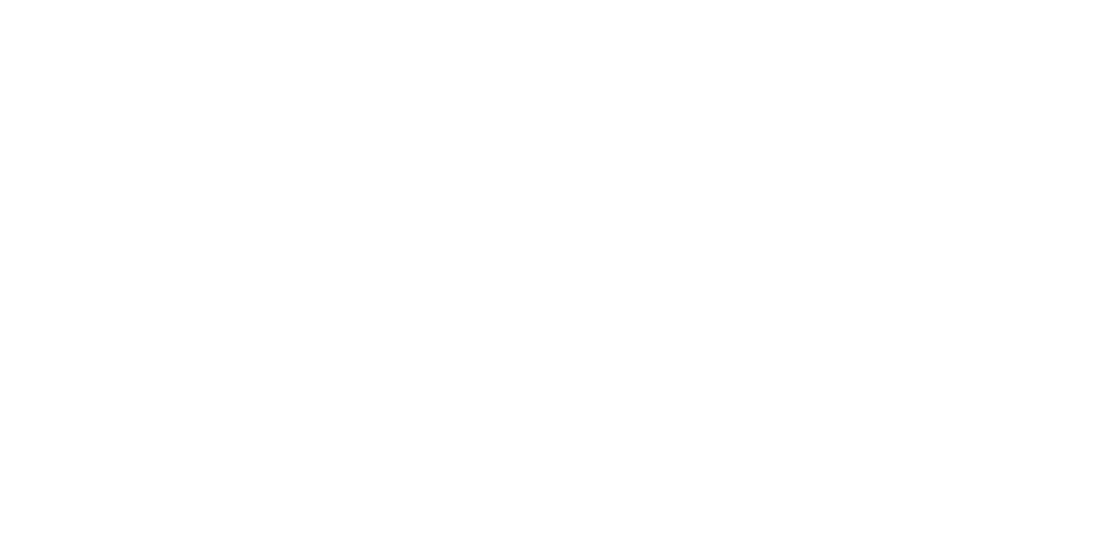
Маршрут эвакуации
В Куйбышеве эвакуированных распределяли по разным местам – кто куда поедет. Нас направили в село Марасы – километрах в пяти от райцентра Державино – расселяли по домам колхозников. Игоря поставили в помощь пастуху. Он, естественно, не знал, как обращаться с коровами. К тому же, в стаде был большой бык, и этот бык бросился на Игоря. Брату удалось от него увернутся, но бык его все-таки задел, по счастью не поранил сильно.
Началась осень, и Игорь ушел в школу в Державино, а мы остались в деревне. Хозяева дома, в котором мы жили, выделили нам большую темную комнату. До войны моя мама, Дагмара Брониславовна, училась в медицинском техникуме, поэтому она устроилась фельдшером, так как в округе не было никакой медицинской помощи. Она должна была ходить по окрестным деревням, навещать больных, разносить лекарства. Помню, я болела чем-то вроде бронхита. Я целыми днями лежала одна в комнате. Было холодно, потому что дров не было. Вокруг была степь, и с дровами вообще было туго. Топили кизяком – сухими коровьими лепешками. За ними ходили с ведрами, как за грибами. Я очень волновалась, что мама заблудится и не придет, потому что начались морозы, снегопады, бураны. Она приходила поздно, измученная. Чем могла кормила меня.
Игорь приезжал к нам только на выходные, а всю учебную неделю жил в Державино. Их там не кормили, поэтому мама давала ему с собой небольшой рюкзак картошки, буханку черного хлеба и стакан масла, это было на неделю.
Я его очень ждала и с жадным интересом слушала его рассказы о жизни в общежитии. Запомнилось, как он говорил про своего соседа, у которого была зажиточная семья. Среди прочего он приносил из дома сало, и Игорь с приятелем, зная об этом, подбивали его на обеды вскладчину.
Однажды на улице я нашла солдатское зажигалку из ружейной гильзы и с гордостью подарила ее Игорю.
Началась осень, и Игорь ушел в школу в Державино, а мы остались в деревне. Хозяева дома, в котором мы жили, выделили нам большую темную комнату. До войны моя мама, Дагмара Брониславовна, училась в медицинском техникуме, поэтому она устроилась фельдшером, так как в округе не было никакой медицинской помощи. Она должна была ходить по окрестным деревням, навещать больных, разносить лекарства. Помню, я болела чем-то вроде бронхита. Я целыми днями лежала одна в комнате. Было холодно, потому что дров не было. Вокруг была степь, и с дровами вообще было туго. Топили кизяком – сухими коровьими лепешками. За ними ходили с ведрами, как за грибами. Я очень волновалась, что мама заблудится и не придет, потому что начались морозы, снегопады, бураны. Она приходила поздно, измученная. Чем могла кормила меня.
Игорь приезжал к нам только на выходные, а всю учебную неделю жил в Державино. Их там не кормили, поэтому мама давала ему с собой небольшой рюкзак картошки, буханку черного хлеба и стакан масла, это было на неделю.
Я его очень ждала и с жадным интересом слушала его рассказы о жизни в общежитии. Запомнилось, как он говорил про своего соседа, у которого была зажиточная семья. Среди прочего он приносил из дома сало, и Игорь с приятелем, зная об этом, подбивали его на обеды вскладчину.
Однажды на улице я нашла солдатское зажигалку из ружейной гильзы и с гордостью подарила ее Игорю.
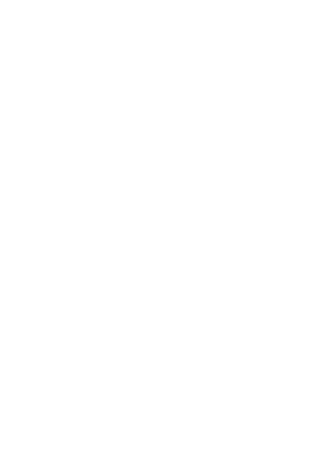
Брат: Игорь Евгеньевич Бургункер / 1943 г.
1942
Хозяйка дома, в котором мы жили, была против того, чтобы к ней селили эвакуированных. Она все время ворчала: «Скорей бы вас куда-нибудь выселили». В конце концов, мама пошла искать новое место, где бы нас приютили. В результате мы переехали в дом, где хозяйкой была женщина, у которой был сын Тошка, мой ровесник.
В начале 42-го папа приехал нас навестить. Он пробыл у нас всего день или два, привез немного продуктов и, по маминой просьбе, одежду, что мы оставили в Москве. Эту одежду мама собиралась, подлатав, обменивать на еду. Достать новую одежду было негде, поэтому брали и потертую и прохудившуюся, даже равные чулки и носки.
Хозяйка дома, в котором мы жили, была против того, чтобы к ней селили эвакуированных. Она все время ворчала: «Скорей бы вас куда-нибудь выселили». В конце концов, мама пошла искать новое место, где бы нас приютили. В результате мы переехали в дом, где хозяйкой была женщина, у которой был сын Тошка, мой ровесник.
В начале 42-го папа приехал нас навестить. Он пробыл у нас всего день или два, привез немного продуктов и, по маминой просьбе, одежду, что мы оставили в Москве. Эту одежду мама собиралась, подлатав, обменивать на еду. Достать новую одежду было негде, поэтому брали и потертую и прохудившуюся, даже равные чулки и носки.
Мать Тошки целыми днями работала в колхозе, мама ходила по больным в окрестных деревнях. Мы с Тошкой оставались одни. Я помню, что все время хотелось есть. Мы даже пробовали есть соль. Однажды я залезла в чемодан, который привез папа. Там мы с Тошкой нашли несколько сырных корок. Корки были от красного круглого сыра. Сыра на этих корках, конечно уже не было, одна шкурка, но мы все равно ее жевали и нам казалось это вкусно.
Еще там были большие поля подсолнечника. И, поскольку есть было почти нечего, многие туда ходили за этими подсолнухами, хоть это было запрещено. Мама с одной женщиной пошли тоже, и их поймали. И скорее всего, маму посадили бы. Но за нее вступился председатель колхоза, у которого была больная жена, а мама приносила ей лекарства и ухаживала за ней. Поэтому он ее уберег.
Еще там были большие поля подсолнечника. И, поскольку есть было почти нечего, многие туда ходили за этими подсолнухами, хоть это было запрещено. Мама с одной женщиной пошли тоже, и их поймали. И скорее всего, маму посадили бы. Но за нее вступился председатель колхоза, у которого была больная жена, а мама приносила ей лекарства и ухаживала за ней. Поэтому он ее уберег.
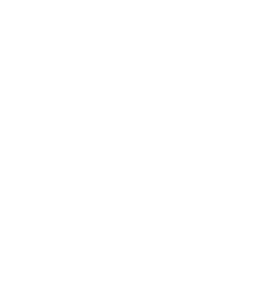
Мама: Дагмара Брониславовна Бургункер / 1943 г.
Потом откуда-то приехал Тошкин отец. Он был против того, чтобы в доме жил кто-то еще. И вот мы с мамой пошли опять по деревне искать жилье. Пришли в дом, где жили очень пожилые люди, тетя Маша и дядя Кузьма. У них были изба с русской печкой, корова и овцы. Прожили мы у них до самого отъезда.
Мы все жили в одной комнате. Зимой часто снега наметало выше окон. Тогда дядя Кузьма выходил на улицу и откапывал окна. Ели мы чаще всего с хозяевами. Помню, что ели – коровье молоко тетя Маша наливала в миску и замораживала, эти ледышки стояли на холоде одна на одной, как глубокие тарелки. В русской печке варили картошку в чугуне. А сверху стругали это молоко. Было очень вкусно: горячая картошка с ледяным молоком. Раза два в год, по праздникам, тетя Маша делала пирог с морковкой и курник.
Помню, я опять заболела, и мама решила везти меня в город. Город назывался Бузулук. Добраться до него можно было только на лошади. Наконец, появилась оказия. Был сильный мороз. Мама закутала меня в несколько одеял. Помню даже, что она обвязала меня ремнем, чтобы я не разворачивалась. Меня положили в сани, а мама шла пешком рядом с санями, и, чтобы согреться, иногда даже бежала. На каком-то ухабе сани подпрыгнули, и я выкатилась из саней на дорогу, хотя дорога – это громко сказано, по ней почти никто и не ездил. Возницей был глухой старик – молодых то и не было. Он продолжал, не оборачиваясь, погонять лошадь. Мама тоже не сразу заметила, что меня нет. А я помню, что лежала, смотрела в небо. Небо ясное было, много звезд, и я с интересом смотрела на них, и думала, как тихо, спокойно, мама меня, наверное, уже не найдет, и я так и останусь здесь навсегда. Пока мама спохватилась, докричалась до старика, то сани были уже довольно далеко. Она бросилась назад, нашла меня, и мы поехали дальше.
В Бузулуке не было детской больницы – мама понесла меня в обычную, которая уже более чем на половину была переоборудована под военный госпиталь. На вокзал все время приходили составы. Целыми днями носили раненых. Меня положили в женскую палату для штатских. Мама ночевала рядом с моей кроватью, на стуле. В нашей палате лежала молодая женщина. К ней приехали родители из деревни и привезли ей молоко и хлеб. А когда они пришли, девушка была уже мертвая. Она умерла, и никто даже не заметил. Они разлили это молоко всем по кружкам и мне налили тоже.
Мы все жили в одной комнате. Зимой часто снега наметало выше окон. Тогда дядя Кузьма выходил на улицу и откапывал окна. Ели мы чаще всего с хозяевами. Помню, что ели – коровье молоко тетя Маша наливала в миску и замораживала, эти ледышки стояли на холоде одна на одной, как глубокие тарелки. В русской печке варили картошку в чугуне. А сверху стругали это молоко. Было очень вкусно: горячая картошка с ледяным молоком. Раза два в год, по праздникам, тетя Маша делала пирог с морковкой и курник.
Помню, я опять заболела, и мама решила везти меня в город. Город назывался Бузулук. Добраться до него можно было только на лошади. Наконец, появилась оказия. Был сильный мороз. Мама закутала меня в несколько одеял. Помню даже, что она обвязала меня ремнем, чтобы я не разворачивалась. Меня положили в сани, а мама шла пешком рядом с санями, и, чтобы согреться, иногда даже бежала. На каком-то ухабе сани подпрыгнули, и я выкатилась из саней на дорогу, хотя дорога – это громко сказано, по ней почти никто и не ездил. Возницей был глухой старик – молодых то и не было. Он продолжал, не оборачиваясь, погонять лошадь. Мама тоже не сразу заметила, что меня нет. А я помню, что лежала, смотрела в небо. Небо ясное было, много звезд, и я с интересом смотрела на них, и думала, как тихо, спокойно, мама меня, наверное, уже не найдет, и я так и останусь здесь навсегда. Пока мама спохватилась, докричалась до старика, то сани были уже довольно далеко. Она бросилась назад, нашла меня, и мы поехали дальше.
В Бузулуке не было детской больницы – мама понесла меня в обычную, которая уже более чем на половину была переоборудована под военный госпиталь. На вокзал все время приходили составы. Целыми днями носили раненых. Меня положили в женскую палату для штатских. Мама ночевала рядом с моей кроватью, на стуле. В нашей палате лежала молодая женщина. К ней приехали родители из деревни и привезли ей молоко и хлеб. А когда они пришли, девушка была уже мертвая. Она умерла, и никто даже не заметил. Они разлили это молоко всем по кружкам и мне налили тоже.
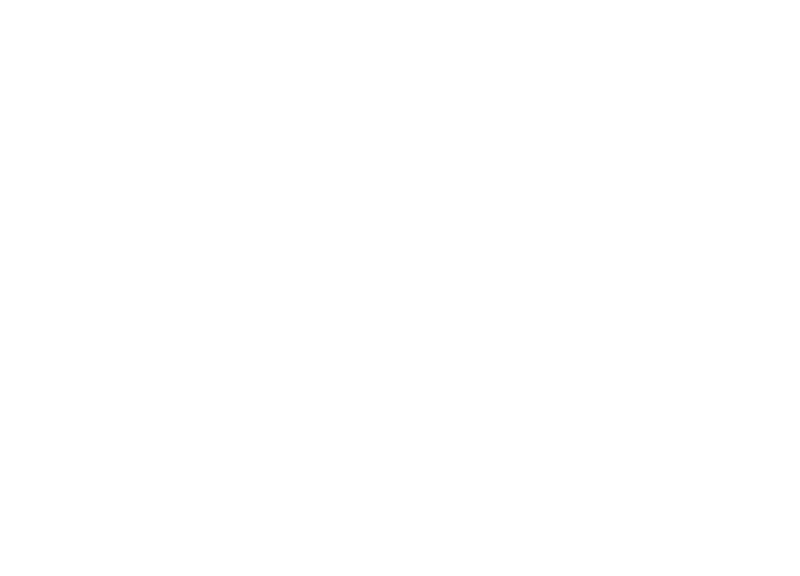
Чехословацкие солдаты (женский батальон) на фоне больницы в Бузулуке / 1942 г. / автор неизвестен / pastvu.com
Я помню длинные, холодные коридоры. Когда я начала выздоравливать, то бегала по ним. Раненые в палатах, увидев ребенка, всегда звали меня к себе. Я была в теплых шароварах, стриженная наголо, и они меня спрашивали:
- Ты кто?
Я отвечала:
- Я Наташа.
- Какая ж ты Наташа? Ты мальчик.
- Нет, я девочка.
- Ну какая ж ты девочка? У тебя нет косичек, ты, вон, в штанах бегаешь.
А я изо всех сил старалась доказать, что я девочка.
Умывальник и туалет были в конце коридора, и однажды я побежала туда умыться и увидела, что там лежит отрезанная нога в валенке. Это так меня напугало, что я с ревом побежала в свою палату.
Вскоре мы вернулись в Марасы. Наши третьи хозяева, Тетя Маша и дядя Кузьма, были одиноки. Когда-то у них было двое детей, но во время страшного голода в 20-е годы они отдали их в детский дом, так как не могли прокормить. С тех пор они о своих детях ничего не слышали. Хозяева не знали, что с ними стало, но предполагали, что, скорее всего, они умерли. Больше детей у них не было, поэтому тетя Маша очень тепло ко мне относилась.
- Ты кто?
Я отвечала:
- Я Наташа.
- Какая ж ты Наташа? Ты мальчик.
- Нет, я девочка.
- Ну какая ж ты девочка? У тебя нет косичек, ты, вон, в штанах бегаешь.
А я изо всех сил старалась доказать, что я девочка.
Умывальник и туалет были в конце коридора, и однажды я побежала туда умыться и увидела, что там лежит отрезанная нога в валенке. Это так меня напугало, что я с ревом побежала в свою палату.
Вскоре мы вернулись в Марасы. Наши третьи хозяева, Тетя Маша и дядя Кузьма, были одиноки. Когда-то у них было двое детей, но во время страшного голода в 20-е годы они отдали их в детский дом, так как не могли прокормить. С тех пор они о своих детях ничего не слышали. Хозяева не знали, что с ними стало, но предполагали, что, скорее всего, они умерли. Больше детей у них не было, поэтому тетя Маша очень тепло ко мне относилась.
Голод в Поволжье 1921–1922 гг.
– Охватил 35 губерний с общим населением в 90 миллионов человек, из которых голодало не менее 40 миллионов.
– Число жертв голода составило около 5 миллионов человек.
– Голод привёл к многочисленным случаям каннибализма и вызвал массовый рост беспризорности и преступности.
– Охватил 35 губерний с общим населением в 90 миллионов человек, из которых голодало не менее 40 миллионов.
– Число жертв голода составило около 5 миллионов человек.
– Голод привёл к многочисленным случаям каннибализма и вызвал массовый рост беспризорности и преступности.
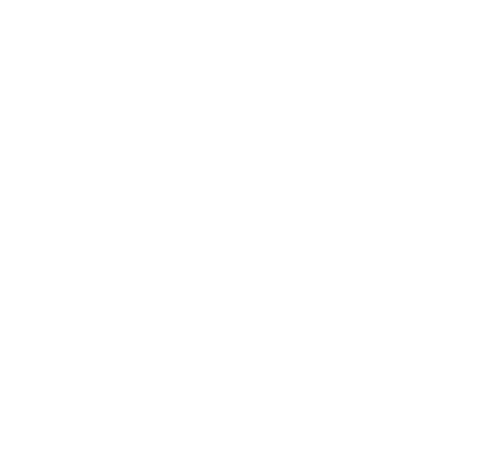
Трупы умерших от голода на кладбище в Бузулуке / 1921 г. / Нансен Фритьоф
В соседнем доме жила одинокая женщина с двумя детьми. Один – Васька, мой ровесник, с которым мы дружили, другой – Витька, он был постарше. Жили они очень бедно, еще хуже, чем другие. И тетя Маша тоже старалась Ваську и Витьку, чем могла, подкармливать. Часто с Васькой мы сидели на печке. Там было всегда жарко и валялись старые тулупы. А мы сидели там с Васькой и играли просто какими-то палочками. Никаких игрушек у нас не было.
В семьях, где оставались мужчины, очень боялись, что их могут забрать в армию. Однажды был такой случай: кто-то из соседей решил подшутить, и сказал тете Маше, что видел в сельсовете повестку дяде Кузьме. Тетя Маша так испугалась, что выбежала на улицу и начала голосить, и не сразу поверила, что это была шутка.
Когда началась Сталинградская битва, мама с Игорем, говорили, если немцы переправятся через Волгу, то очень быстро дойдут до этих мест. В таком случае мама берет меня на руки, и мы все уходим, потому что там уже нам было не выжить.
1943
В 43-м году за нами приехал папа. Это было уже после Сталинградской битвы. Мы на грузовике доехали до Куйбышева, где нас погрузили в товарные вагоны, в которых были построены полати, и на этих полатях спали по нескольку человек, целыми семьями, было очень тесно. Рядом с нами ехала женщина с мальчиком. У них была банка сиропа из шиповника, которым она кормила своего сына. Он есть не хотел, а мы просто облизывались, глядя на этот сироп, у нас то даже и куска сахара не было. Наконец, мы доехали до Москвы. По прежнему было очень голодно, еда была по карточкам.
1944
В 44-м году я пошла в первый класс. Тогда мы жили в Балашихе, у папиного брата, который работал на том же заводе, что и папа. Поскольку родители у всех работали, мы оставались в школе до вечера. Иногда учительница водила нас на прогулку в лес. Там я находила грибы и складывала их в шапку, и гордая отдавала вечером маме. Мама меня очень благодарила, и по дороге домой, незаметно их выкидывала: все грибы были несъедобные.
1945
Через полгода после победы папу отпустили с завода, и мы вернулись домой в Москву.
В семьях, где оставались мужчины, очень боялись, что их могут забрать в армию. Однажды был такой случай: кто-то из соседей решил подшутить, и сказал тете Маше, что видел в сельсовете повестку дяде Кузьме. Тетя Маша так испугалась, что выбежала на улицу и начала голосить, и не сразу поверила, что это была шутка.
Когда началась Сталинградская битва, мама с Игорем, говорили, если немцы переправятся через Волгу, то очень быстро дойдут до этих мест. В таком случае мама берет меня на руки, и мы все уходим, потому что там уже нам было не выжить.
1943
В 43-м году за нами приехал папа. Это было уже после Сталинградской битвы. Мы на грузовике доехали до Куйбышева, где нас погрузили в товарные вагоны, в которых были построены полати, и на этих полатях спали по нескольку человек, целыми семьями, было очень тесно. Рядом с нами ехала женщина с мальчиком. У них была банка сиропа из шиповника, которым она кормила своего сына. Он есть не хотел, а мы просто облизывались, глядя на этот сироп, у нас то даже и куска сахара не было. Наконец, мы доехали до Москвы. По прежнему было очень голодно, еда была по карточкам.
1944
В 44-м году я пошла в первый класс. Тогда мы жили в Балашихе, у папиного брата, который работал на том же заводе, что и папа. Поскольку родители у всех работали, мы оставались в школе до вечера. Иногда учительница водила нас на прогулку в лес. Там я находила грибы и складывала их в шапку, и гордая отдавала вечером маме. Мама меня очень благодарила, и по дороге домой, незаметно их выкидывала: все грибы были несъедобные.
1945
Через полгода после победы папу отпустили с завода, и мы вернулись домой в Москву.
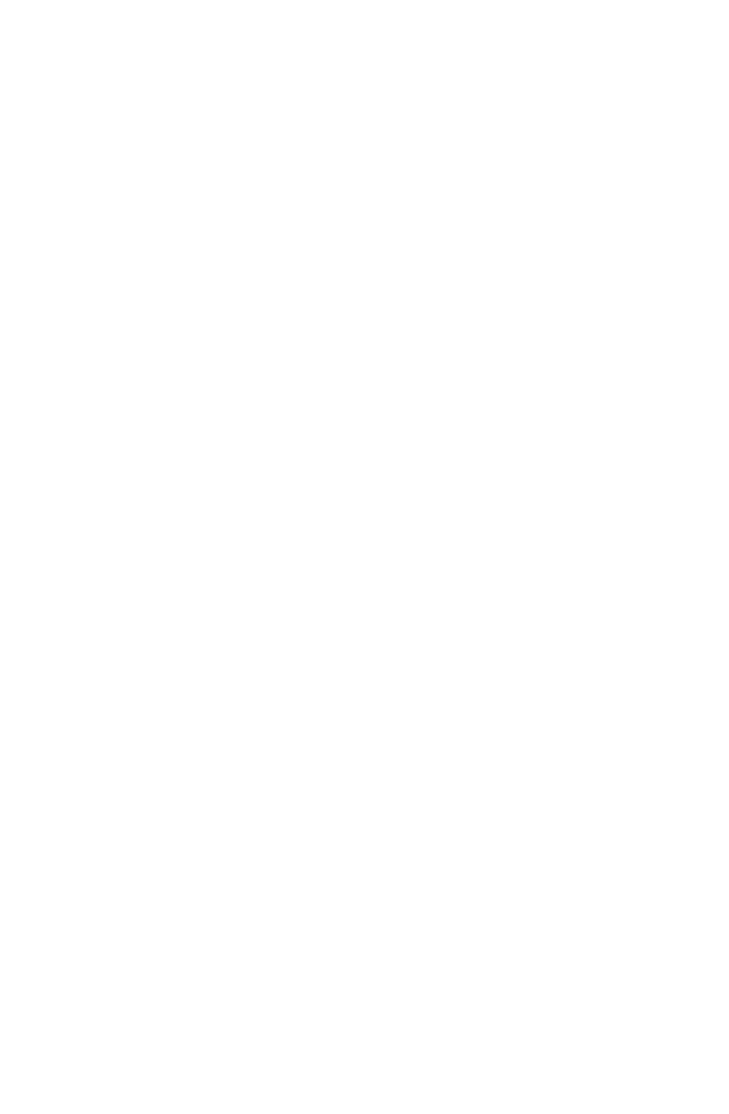
С папой и мамой на даче / 1946 г.
Что мне дал этот проект
Слушая рассказы моей бабушки о ее детстве, я всегда жалел, что когда-нибудь эти истории забудутся, но теперь я надеюсь, они останутся в памяти следующих поколений нашей семьи.
Обложка: Яндекс картинки – эвакуация во время войны / автор неизвестен